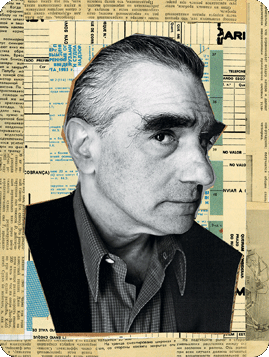 Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе
Режиссер, 63 года, Лос-Анджелес
Должен сказать, у меня довольно паршивое настроение. И так уже лет 40.
Становясь старше, время от времени ты должен выбирать, с кем сражаться. В молодости ты воюешь со всеми. Ты как боец на ринге, дерешься со всяким, кто бы ни вошел. С возрастом приходится осознавать: подожди-ка, это не стоит потраченных сил, потерпи, пока не начнется монтаж.
Кажется, сейчас я стал немного мягче, потому что в конце концов в начале 1990-х многим в Голливуде понравилось то, что я делал. Они осмотрелись, а я все еще тут. Спустя 20 лет они сказали себе: «Эй, он все еще жив. Он снял много чего, и это было неплохо. Не принесло денег в то время, но было совсем не плохо». Оказалось, что когда мне нужны были деньги, почти в каждой студии находился человек, которому я нравился. Так что я прекратил бороться.
Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что со временем приучаешься думать, прежде чем действовать.
Когда я снимал «Казино», я был очень зол на Лас-Вегас. Вам может нравиться Вегас, но это место исключительной жадности. Он всегда был вроде отражения Голливуда, отражения американской культуры. I can’t get no satisfaction, как поют Rolling Stones. Еще, еще, еще и еще. Бесконечное обжорство, пока все не лопнут. И это мое отношение заметно в фильме.
Я не различаю право и лево. На площадке, когда я говорю: «Я хочу, чтобы этот человек встал левее», — я должен коснуться плеча, иначе обязательно перепутаю. Кроме того, я отчасти дислексик. Когда я говорю «госпиталь»… Вот видите, я хотел сказать «отель». В общем, когда я хочу сказать про «отель», я произношу: «Почему бы нам не отправить его обратно в госпиталь».
Во время съемок «Бешеного быка» (1980 год. — Esquire) я на самом деле чуть не умер от кокаина, но по прихоти судьбы все кончилось хорошо, я не умер, а доснял фильм. Мне было плевать, что с ним потом будет, я просто хотел вывалить в него все. Я был очень зол. Но это была очень продуктивная злость. Я знал, что, скорее всего, это будет последний фильм, который я сниму. Я чувствовал, что в режиссуре для меня больше нет места. Особенно в Америке.
Злость заложена в самой человеческой природе, если ты жив — ты зол. Она может быть деструктивной, может стать причиной убийства, может съесть тебя изнутри. Но в то же время может быть и конструктивной.
Моя проблема в том, что я хочу делать все сразу. Я хотел снимать кино про Александра Македонского, и Оливер Стоун сказал мне: «Ну уж нет, это буду делать я. Тебе же нравятся римляне, ты не любишь греков». Я говорю: «Я люблю греков!» «Нет, — говорит, — я тебя знаю, ты любишь римлян». И он был прав!
В Хеллз Китчен (один из самых дешевых районов Манхеттена. — Esquire), где мы снимали, был парк. Между 11-й улицей и 54-й, или 56-й — не помню. Теперь он называется Клинтон парк. Там стоит бронзовая статуя солдата, на которой написано что-то о Первой мировой войне. На протяжении пятнадцати лет, каждый раз, как я проходил мимо, она всегда была вымазана краской или покрыта граффити. Я говорил: «Эта бронза такая красивая, в Первую мировую войну погибло столько людей. Да и во Вторую тоже. Кажется, это не слишком уважительно». Понимаете, даже если ты пацифист, то совсем не обязательно быть идиотом. Мне нравится, что теперь его отмыли.
С другой стороны, Америка тем и красива, что ты можешь сжечь флаг. Возможно, тебе не захочется, но ты можешь. Хотя я сам не стал бы этого делать, хотя бы потому, что люди гибли за этот флаг.
Я параноик и больше не хожу по улицам. Хотя раньше много гулял.
Сейчас уже и не скажешь ничего ни о каких меньшинствах. Из-за всей этой политкорректности стало крайне сложно рот раскрыть.
Я вырос в доме номер 232 по Элизабет-стрит. Туда приезжали люди из одного сицилийского городка, так что скоро он сам стал маленькой Кирминой — это такой город недалеко от Палермо, откуда была родом мамина мама. А через улицу стоял дом 241, и там было то же самое, только люди приезжали из Пулици — это тоже недалеко от Палермо, только повыше в горах. Оттуда родом был отец отца. Эти два дома стояли друг напротив друга, но мама рассказывала, что когда она только познакомилась с отцом, у них была проблема: они были разной национальности. Так и сказала — «разной национальности», хотя они просто были из разных деревень.
Я люблю монтировать, я знаю, как смонтировать кино, возможно, даже знаю, как его снять, но я не знаю, как сделать освещение. Наверное, это связано с тем, что я вырос без света, в доходных домах. Это было как в деревне, где очень много жизненной силы. Но свет был весь искусственный. Поэтому я не знал, откуда должен идти свет, когда я стал снимать кино.
У нас в районе жили только итальянцы. Там была одна женщина, которая держала мясную лавку в доме напротив. Звали ее Мэри Мясник. Она и сейчас там живет, и хотя ей 90 лет, она все еще рубит мясо. Вот вы бы к ней сходили и взяли интервью. Железная старуха. Я ее даже снял в своем первом фильме. У нее всегда было потрясающе свежее мясо. А главное — ты всегда видел, как его рубят, как оно лежит, разрезанное на правильные куски.
Когда я был маленький, не очень это понимал, но на самом деле все мы жили в самой настоящей сицилийской деревне. Это был живой организм. Было там еще одно место — магазин Торминелли. Маленький такой продуктовый магазин, но я его никогда не забуду. Когда был обед, я там покупал сэндвич, а потом нес его в школу. Там были огромные бочки с оливками, потрясающая пряная ветчина, всякие мясные деликатесы, салат из тунца, который делал сам Торминелли. И все это пахло. Пахло просто потрясающе.
Когда «Таксиста» должны были номинировать на «Оскар» как лучший фильм, он получил три другие номинации: лучший актер, лучшая актриса второго плана и лучшая музыка. Сценарий и режиссер остались без номинаций. Я был очень расстроен, и сказал себе: «Знаешь что? Так и должно быть». А что мне было делать — пойти домой и поплакать?
Не бывает бессмысленного насилия. «Город бога» (бразильский фильм о жизни подростков в нищем и криминальном квартале Рио-де-Жанейро. — Esquire) — это бессмысленное насилие? Нет, это реальность, это настоящая жизнь, это просто состояние человека. Когда в молодости я был увлечен христианством, католицизмом, я к этому относился довольно наивно. Где-то в глубине души мне очень хотелось верить, что все люди действительно хороши, — но реальность перевесила.
Мне кажется, что любой чуткий человек должен понимать, что насилие не может изменить мир, а если и меняет, то только временно.
Когда мы готовились к съемкам «Воскрешая мертвецов», мы с Джо Коннелли (автор книги, которая легла в основу фильма. — Esquire) катались на скорой помощи по Нью-Йорку. Так вот, когда ты едешь на скорой по городу, особенно если это Манхеттен, ощущение совершенно безумное. Кругом летят огни, красный свет, радио орет. Поначалу врачи скорой вели себя очень пристойно: мол, вот как у нас тут все чинно. Это было очень мило с их стороны. Но в конце концов Джо, а он этот мир знает не понаслышке, говорит: «Ладно вам, ребята. Давайте уж, как положено. Врубайте радио». Они врубают радио, а там — The Who. Я потом использовал в фильме эту их песню «Drive your bloody baggage out» («Увози отсюда свое чертово барахло». — Esquire). Ну вот, несемся мы по улице, сирена гудит… Когда переезжаешь к перекрестку, становится довольно страшно. Они никогда не останавливаются, просто притормаживают, если кто-то есть на пути. А потом — приезжаешь на место, и все время оказывается, что нужно бежать по лестнице пять пролетов. Именно пять. Вызов — «затруднение дыхания». Но ты никогда не знаешь, что там на самом деле. И вот ты бежишь — первый пролет, второй, третий, и тут спрашиваешь себя: «А что если это не затрудненное дыхание? А что если там какой-нибудь маньяк, который кого-то убил? Или просто мужик с пистолетом?» Но тогда оказалось, что это был просто мальчик, у которого были серьезные проблемы с легкими. Там были его мать и бабушка. И вот, когда мы пробежали эти пять пролетов, нас встречает бабушка и говорит: «Бедные, совсем запыхались, идите сюда». Мальчику было плохо из-за астмы. Но меня по-настоящему поразило, что она заботилась о нас.
Я не понимаю рэп и не слушаю его. Но его невозможно остановить. Его делают дети, у которых нет другого способа выражения, поскольку писать музыку дешевле, чем снимать кино, и им не хватает словаря, чтобы сесть и заняться литературой, написать книгу. Они живут на дне. Я видел пьяных ребят, единственным желанием которых было выпить еще. Ты видишь, как они блюют, как они умирают. Это повторяется и повторяется. Протрезвев, они работают немного на кого-нибудь по соседству, потом снова напиваются и теряют контроль над собой. Это угнетающее зрелище. В результате кто-то злится и бьет их битой по голове, потому что от них одни неприятности.
Кино удовлетворяет извечную потребность коллективного бессознательного — потребность людей в общих воспоминаниях.
Когда я слышу о том, что нужно проявлять к людям жалость, я не понимаю, как это вообще возможно в городских условиях, особенно в Нью-Йорке. Как открыться и не потерять способность сочувствовать людским страданиям, которые окружают тебя со всех сторон?
Конечно, приятно читать про себя, что ты величайший из ныне живущих американских режиссеров, но я научился не воспринимать это все всерьез. Нельзя быть слишком надменным, тогда все начинает валиться из рук. А если говорить про кино, то есть множество людей, которые снимают отличные фильмы: Стивен Спилберг, Фрэнсис Коппола, Бернардо Бертолуччи, Дэвид Кроненберг, Вуди Аллен, Роберт Олтман, Спайк Ли, Чарльз Бернетт, Оливер Стоун. А ведь есть еще и китайское кино!
Время идет, я старею и начинаю замечать, что мне просто нужно посидеть в тишине и подумать.
Мы как-то обсуждали проблему насилия с Ричардом Гиром, который уже много лет как ученик далай-ламы. И вот он говорит: «А может, ненасилие революционно?» Может, и так. Может, это и есть крайняя форма революции. Ведь в чем наша сущность? В жестокости или в любви, жалости? И в том и в другом. Но рано или поздно одна из сторон должна победить. Самое трудное — сохранить истинную простоту.
Недавно я слышал, как Стивен Хокинг (физик, автор знаменитой книги «Краткая история времени». — Esquire) говорил о начале времен, начале космоса. И вы знаете, есть что-то успокаивающее в том, что мы — всего лишь часть чего-то бесконечно большего. Не то чтобы у меня не было эго — эго у меня будь здоров, — но все-таки приятно чувствовать, что тебе просто нужно встроиться в систему, а не бороться и убивать, чтобы достичь… чего? Заработать еще один миллион долларов? Что мне с ним делать? Мои дети устроены. Родителей уже нет в живых. Брат в порядке. Значит, я этот миллион просто потрачу.
Оливер Стоун меня как-то спросил: «Чего ты хочешь добиться в кино?» Мы друг друга подкалывали, он меня так провоцировал. И я имел наглость сказать: «Я надеюсь, что мои фильмы оставят какой-то след». Он только рассмеялся: «Ты снимаешь кино, чтобы оставить след?» На самом деле он имел в виду: «Тебе надо срочно что-то делать со своими амбициями».
Конечно, я демократ. Ну да, скорее демократ, хотя я и воспитывался в субкультуре, в которой политикой интересоваться не принято, в которой политикам не доверяют и вообще предпочитают не лезть во все эти дела. Мой народ, сицилийцы, они приехали в Америку, чтобы на столе всегда была еда. Вот и все. Им было не до политики, там, где они жили, был голод. Когда они сюда приезжали, они едва знали английский, они даже не были гражданами этой страны. Они не понимали, как воспользоваться всеми ее возможностями. И когда мой отец захотел пойти на курсы бухгалтеров, ему сказали, что он должен идти рыть канавы вместе с моим дедом. Мой отец был демократом рузвельтовского склада. К концу 1950-х он стал гораздо более консервативным. Он был в курсе того, что такое профсоюзы. Он и сам был в профсоюзе швейного квартала. И он понимал: то, что хорошо для рабочих, хорошо и для него, потому что он и есть рабочий класс. Но одну вещь он понял благодаря своему отцу — и вообще сицилийскому опыту, опыту Старого Света, который для Америки является своеобразной прародиной, потому что все рано или поздно приехали именно оттуда. Он понял, что ни в коем случае нельзя целиком и полностью верить в одно правительство, особенно — в одного демагога или президента.
Единственный человек, который в кино правильно относился к боксу, — Бастер Китон.
В 1980-е в американской экономике был настоящий бум, появилась куча миллиардеров. А что это значит? Что все это было достигнуто за счет огромного количества других людей.
Чем богаче становится страна, тем больше бездомных и бедняков выметают с улиц. Их просто увозят, чтобы средний класс и богачи их не замечали. Но у нас же все равно остается ответственность. Я не очень понимаю, как с этим быть.
Меня не приглашают в Белый дом, когда там смотрят мои фильмы. Всех приглашают, а меня — нет.
Многие американцы, как и я, чувствуют, что все эти разговоры про войну (в Ираке. — Esquire) на самом деле имеют экономическую подоплеку, что отчасти все это завязано на нефти. Мне кажется, главное — уважать чужой образ жизни. И должны быть способы дипломатического разрешения этого конфликта, просто обязаны.
Я бывший католик. Но я все-таки католик — от этого не избавишься.
Вообще-то я хотел стать обычным приходским священником. Но я не мог соотнести с этим желанием внешний, светский мир. Я не понимал, как человек может существовать в двух этих измерениях. Как жить по Новому Завету, следовать новозаветному закону любви к богу и ближнему в современном мире?
Музыка — это моя страсть. Но слушать ее толком сейчас не получается. Дома — нельзя, там маленькая дочка. У меня, конечно, есть iPod и все дела, но от него очень быстро начинают болеть уши.
Когда я снимал «Авиатора», я задумался о том, что сама эта идея — авиации — очень сильно изменилась. Сейчас даже слова такого больше нет — авиатор. Нет этого романтического образа человека в развивающемся белом шарфе. Наверное, сейчас его место заняли астронавты. Сам я панически боюсь летать.
Говард Хьюз (миллионер, режиссер, летчик и герой фильма «Авиатор». — Esquire) был сумасшедший. Мне это в принципе знакомо. Друзья часто говорят про меня: «Не ходите в ту комнату. Он надел коробки из-под носовых платков на ноги. Не ходите туда. Сейчас не лучшее время». Да, такое случалось, и не раз.
Я злюсь не только на каких-то людей или на систему. Я злюсь и на себя тоже. И так всегда. По той или иной причине, но я всегда в плохом настроении. И ничего не могу с этим сделать. В работу всегда идет какое-то количество злости. Может быть, с возрастом ее становится меньше. Но все равно хватает. Поэтому у меня в фильмах так много юмора. Приходится, потому что все кругом абсурдно. Я сам человек абсурдный.
Я мало с кем вижусь. Больше всего я люблю запереться в просмотровой и просто смотреть кино.
esquire.ru |





